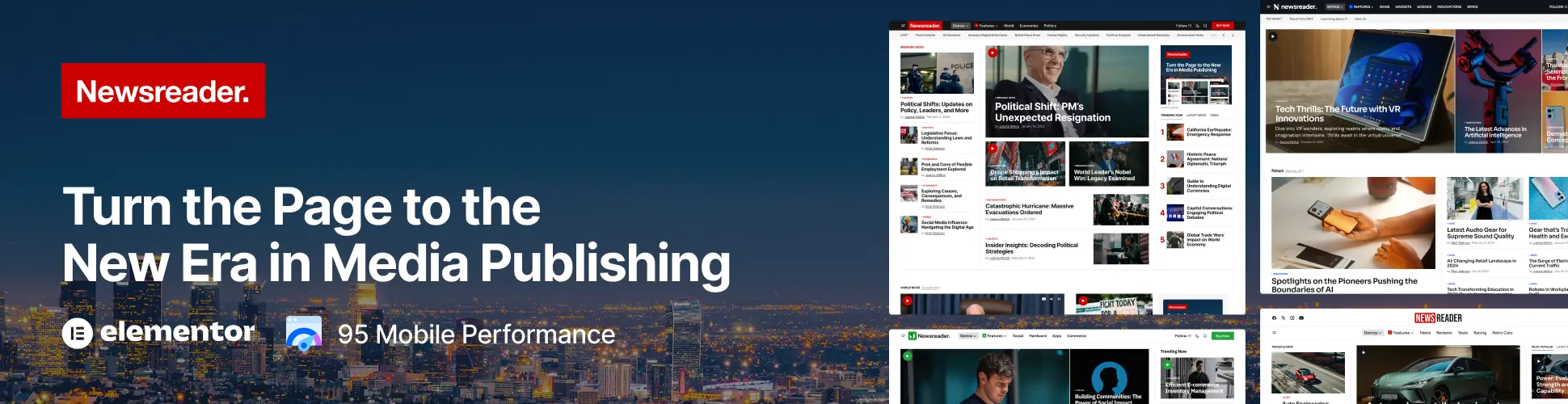Дон-н-н-н… Слышишь? Это я. Колокол монастыря Святого Бернара. Висю здесь уже триста лет, на высоте 2469 метров, где воздух такой тонкий, что мой звон долетает до самого неба. Я звонил по мертвецам. Звонил по спасённым. Но никогда – НИКОГДА! – я не звонил так, как в ту ночь декабря 1815 года.
Позволь рассказать тебе правду. Не ту, что пишут в книгах. А ту, что слышал колокол.
В тот день должно было случиться чудо или катастрофа. Двадцать шесть кантонов Швейцарии – как двадцать шесть братьев, которые ненавидят друг друга – решили послать детей на переговоры.
“Взрослые испортили всё,” – сказали они. “Пусть дети покажут нам путь.”
Двадцать шесть детей. По одному от каждого кантона. Все в красных плащах – чтобы видеть друг друга в снегу.
Я ждал их. Мой бронзовый язык дрожал от нетерпения – я должен был прозвонить двадцать шесть раз, по разу на каждого прибывшего ребёнка. Это был план. Вся Швейцария слушала бы мой звон и считала: один… два… три… когда дойдёт до двадцати шести – значит, все собрались, можно надеяться на мир.
Но к полудню я не звонил ни разу.
Потому что началась ОНА.
Метель.
Знаешь, что такое альпийская метель? Это не просто снег. Это белая смерть, которая танцует. Это тысяча ледяных ножей. Это слепота и глухота одновременно.
Брат Якоб стоял под мной, смотрел в белую пустоту и шептал молитвы. А рядом лежал Барри. Огромный рыже-белый сенбернар. Четыре года от роду, но уже легенда – одиннадцать спасённых жизней.
— Барри, — сказал монах. — Двадцать шесть детей. Где-то там. Если хоть один не придёт, его кантон обвинит остальных. Начнётся война. Швейцария развалится.
Барри встал. И я почувствовал – мой бронз это чувствует – что собака понимает. Не слова, но суть. Двадцать шесть. Найти всех. Каждый важен.
Пёс вышел в метель.
И я начал свою работу. Мой секрет, который никто не знает: я могу петь так тихо, что слышат только потерянные. Это древняя магия колоколов – мы зовём заблудших домой.
динь… динь… динь…
Я пел в метель, и мой голос летел по ветру, находил детей, шептал: “Держись… Барри идёт… Держись…”
Первого – мальчика из Цюриха – Барри нашёл через час. Почти замёрзшего, но живого. Притащил к двери, поскрёб лапой.
ДОНН-Н-Н-Г!
Я звонил первый раз. По всей Швейцарии люди подняли головы: “Один!”
Вторая – девочка из Берна. Барри нёс её на спине, как лошадь.
ДОНН-Н-Н-Г!
“Два!” – считала Швейцария.
Третий – мальчик из Люцерна с broken ногой. Барри тащил его за шиворот три километра.
ДОНН-Н-Н-Г!
“Три!”
И так продолжалось. Часами. Барри уходил в метель, находил, приносил. А я звонил. Четыре… пять… шесть…
К полуночи я прозвонил двадцать пять раз.
Двадцать пять детей сидели в монастыре, закутанные в одеяла, перевязанные белыми бинтами, живые.
Но кантонов – двадцать шесть.
— Марта, — прошептал кто-то. — Марта из Аппенцелля. Самый маленький кантон. Она была с нами, но…
О, Аппенцелль! Крошечный кантон, который все забывают. Если их ребёнок не вернётся, они скажут: “Вот видите? Для больших кантонов мы – ничто!”
Барри лежал у очага. Я видел сверху – его лапы были в крови, шерсть обледенела, он еле дышал. Но когда услышал “двадцать пять, не двадцать шесть”, встал.
Покачнулся. Но встал.
Подошёл к двери.
— Нет! — Брат Якоб схватил его. — Ты умрёшь!
Барри посмотрел на него. Потом на меня. Я понял – пёс просил меня петь громче. Помочь найти последнюю.
Дверь открылась. Барри ушёл.
А я начал петь – не тихо, как раньше, а В ПОЛНЫЙ ГОЛОС! Бронз трещал от напряжения. Триста лет службы, и я никогда так не звонил!
ДОНН-Н-Н-Н-Н-НГ! ДОНН-Н-Н-Н-Н-НГ!
“Иди сюда, Марта! Барри ищет! Отзовись!”
Час. Два. Три.
Барри не возвращался.
Дети плакали. Монахи молились. А я продолжал звонить, звонить, звонить, пока язык не начал трескаться.
И вдруг – тишина внизу. Скребётся что-то в дверь. Слабо. Едва слышно.
Открыли.
Барри. На последнем дыхании. А в зубах – красный плащ. И в плаще – девочка. Марта. Синяя от холода, но ЖИВАЯ!
ДОННН-Н-Н-Н-Н-Н-НГ!!!
Двадцать шестой звон! Самый громкий! Я звонил так, что снег сошёл с крыши! Звонил от радости, от облегчения, от гордости!
ВСЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ!
По всей Швейцарии люди плакали от радости: “Двадцать шесть! Все дети живы! Швейцария едина!”
А в монастыре происходило чудо.
Дети встали в квадрат – потому что квадрат не имеет главной стороны, все равны. Сняли свои красные плащи, положили на пол. Красный квадрат.
Потом сняли белые бинты – те, которыми монахи перевязали их раны. Выложили крест на красном квадрате.
И я – старый колокол – увидел, как рождается символ.
Красный – тепло жизни в ледяных горах, кровь, которую готовы отдать друг за друга.
Белый крест – помощь, спасение, рука, протянутая в метели.
Квадрат – равенство всех, от огромного Берна до крошечного Аппенцелля.
Ткань поднялась в воздух сама собой, соткалась из света и тепла детских сердец.
Флаг Швейцарии.
И я звонил! Звонил в ритме: ДОНГ – за Цюрих! ДОНГ – за Берн!
ДОНГ – за Люцерн! …двадцать шесть ударов, но не раздельных – слившихся в одну мелодию!
Знаешь, что я понял той ночью?
Швейцария – это не земля. Не горы. Даже не люди.
Швейцария – это готовность идти в метель за последним, самым маленьким, самым забытым.
Барри умер на следующий день. Сердце не выдержало. Но умер счастливым – я это знаю, потому что колокола чувствуют последние мгновения. Он выполнил своё предназначение. Спас не просто двадцать шесть детей. Спас идею Швейцарии.
Теперь, триста лет спустя, я всё ещё вишу здесь. Ржавый, треснувший, но звонящий. И каждый раз, когда вижу красный флаг с белым крестом, вспоминаю:
Двадцать шесть детей. Двадцать шесть свечей одной надежды. Двадцать шесть голосов одной песни. Двадцать шесть – но ОДИН.
ДОНН-Н-Н-Н-Г…
Слышишь? Это я звоню по Барри. Каждый день в полночь. Чтобы помнили.
Собаку, которая не спросила, из большого ты кантона или маленького.
Просто спасла всех.
П.С. Если будешь в Альпах и услышишь колокол в полночь – помолчи минуту. Это я рассказываю ветру историю о псе, который был больше, чем пёс. И о флаге, который больше, чем кусок ткани. О двадцати шести, которые стали одним.